Мало кто ставит под сомнение школьную программу по физике, географии или математике. А вот о литературе готовы спорить, кажется, все. Нужны ли детям сложные многотомные тексты? Зачем учить столько стихов? А сочинения — это вообще что? На круглом столе Storytel, который прошел в «Новой школе», об этом рассуждали учителя и словесники.
Мы записали их главные тезисы.
Для чего нужна литература в школе
Константин Мильчин, литературный критик, журналист: Мне кажется, что литература и ее важная часть, школьная программа по литературе, — это некоторый набор мемов, понятных всем. Если двадцатилетние не факт что знают «Иронию судьбы», а я, например, не слышал ни одной строчки Моргенштерна, то какие-то фрагменты из Пушкина, Грибоедова, Толстого и далее понятны абсолютно всем. Это то, что нас немножечко связывает; то, с чего мы можем начать разговаривать, если поговорить хочется, а совершенно непонятно, с чего именно нам начинать.
Ирина Лукьянова, обозреватель «Новой газеты», учитель литературы: Мне кажется, литература — это древнейшая форма хранения человеческого опыта, такой всемирный интернет в эпоху до изобретения самого интернета. Это колоссальное хранилище, всемирная библиотека, в которой человеческий опыт присутствует еще до того, как была изобретена политология, экономика, социология, психология. Авторы все это уже видели и наблюдали. Гоголь описал Плюшкина раньше, чем появилось определение «обсессивно-компульсивное расстройство». И наша задача как учителей, мне кажется, не навязывать ту или иную идеологию, а дать детям какие-то ориентиры, чтобы в этой мировой библиотеке управляться, не отказываясь от нее, и выбирать то, что им по каким-то причинам сейчас необходимо.
Нелюбимая школьная классика |Гид по школьной программе по литературе|
Евгения Рябова, преподаватель словесности в «Новой школе»: Литература становится некой базой для народа, потому что у нас нет развитой философской мысли, которая была бы суперзаметной в мире. Литература занимает это место. Для себя лично я решила, что мы учим детей читать тексты, которые позволяют говорить о себе и понимать себя, потому что любой текст — это разговор с другим человеком. Любой текст заставляет нас понять, что хотел сказать человек, как он это сказал, почему он так сказал. Это диалог.
Оксана Васякина, писательница, феминистка, лауреат различных литературных премий: Когда я ехала в такси, я думала про литературу как про репрессивную машину, потому что, помимо того что нас все время учили (по крайней мере, меня учили) переучиваться с левши на правшу, по сути, тот канон, та программа, все те штуки, которые мы с вами обсуждаем, работают на то, чтобы нас всех сделать одинаковыми людьми. Мы же еще выросли в аналоговую эпоху, у нас не было интернета, у нас не было ничего, кроме телика и плохой библиотеки. Действительно, очень сложно было противостоять этому однообразию. Сейчас дети намного сложнее и намного разнообразнее.
Что читают современные школьники
Ирина Лукьянова: Они все читают разное. Я у них всегда прошу в начале сентября, когда они приходят на первый урок: похвалите мне, прорекламируйте какую-нибудь книжку, которую вы прочитали летом, и мы проголосуем за лучшую презентацию и за книжку, которую большинство захочет прочитать.
Литература в школе убивает любовь к книгам
А еще дети, которые к нам приходят поступать, должны принести (если они поступают на гуманитарный профиль) тетрадочку, в которой выписаны 50 последних книг, которые они прочитали. Эти списки не совпадают вообще ни у кого. У кого-то сплошь идут серии: «Гарри Поттер», «Коты-воители», еще что-то. У кого-то — сплошь книги издательств «Самокат», «Розовый жираф», «КомпасГид». У кого-то — сплошь скандинавские авторы.
Кто-то существует в контексте аниме, кто-то существует в контексте фанфиков. У них нет объединяющего начала, чтобы все смотрели одни и те же фильмы, слушали одну и ту же музыку, говорили об одном и том же, пользовались одними и теми же цитатами.
Не знаю, обратили вы внимание или нет, что «12 стульев», Довлатов как всеобщие цитатники уже потеряли свою роль
И ничего трагического, кажется, с национальным сознанием от этого не произошло. Оттого, что стало больше разнообразия и меньше единообразия, оттого, что люди стали одеваться не в одинаковые одежды, а в разные, читать не одни и те же книги, а разные, никакой духовной катастрофы не случилось.
Чему классика может научить наших детей
Борис Куприянов, издатель Gorky.media, один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер»: Ради чего люди изучают математический анализ в школе? Это делается вовсе не для того, чтобы люди умели построить функцию и взять ее предел, взять вторую производную. Вы просто должны научиться анализировать. Анализировать можно учиться различными способами.
Литература — прекрасный вариант для тех, кто не очень способен анализировать при помощи математического анализа. На самом деле, литература и математика — это два предмета, которые учат не знаниям, а способам. Они учат мыслить.
А вот по поводу истории о том, что литература учит хорошему… Что значит «учит хорошему»? Русская литература сейчас с точки зрения общей морали хорошему не учит. Она учит очень странным вещам. Дубровский — две статьи, Евгений Онегин — тоже две статьи. Каждый под статьей ходит.
Более того, ведь на самом деле какая-нибудь «Война и мир» не является классикой вообще!
Классикой является бал Наташи, какие-то кусочки из «Войны и мира», а вся «Война и мир» классикой не является. Никто не помнит ее. Она настолько трудно составлена, составлена в разное время, настолько фрагментарно, что не может являться классикой вообще.
Поэтому учить литературу можно только через обучение взаимодействию с текстом: как понимать текст, как распознавать его и пытаться с ним дискутировать. Других функций в наше время у русской литературы, по-моему, нет.
Что не так со школьной программой
Константин Мильчин: М ы отдаем себе отчет в том, что школьная программа немножечко устарела, она была придумана в те времена, когда дискуссии о том, как должно быть устроено общество и будущее, не были столь яркими и яростными, как сейчас. Не было таких задач по изменению общества, по созданию его нового лика. Нынешняя школьная программа, безусловно, не отражает гендерного, этнического, прочего состава общества.
Оксана Васякина: Давайте хотя бы сбалансируем гендерный состав. К Пушкину поставим Ростопчину, например, или Каролину Павлову.
Можно просто показать «Памятник» Пушкина и «Недоконченное шитье» Ростопчиной. Я всегда сравниваю эти два текста, потому что они написаны примерно в одно и то же время. С одной стороны, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», с другой — Ростопчина обращается к своему шитью и говорит: «Ты мое шитье, ты мой рукотворный памятник». Вот, собственно, разница.
Я преподаю неподцензурную советскую поэзию, соответственно, я параллельно объясняю: этих женщин из списка мне пришлось просто вытаскивать за волосы из антологии неподцензурной советской поэзии. Их там всего лишь две или три было. Елена Шварц, естественно, великая Седакова.
Всех невеликих женщин просто смыло волной истории. А всех невеликих мужчин, например, оставили
На эту критику уходит достаточно много сил. Это бесконечное проговаривание, бесконечные ответы на подвешенные вопросы. Это и гендерный вопрос, и социальный вопрос, и политический вопрос, это часть интерпретации тоже.
Валерий Печейкин, драматург «Гоголь-центра», писатель: Я бы еще попросил всех учителей мира быть самим живыми людьми. От учителя, мне кажется, зависит очень много. В се, кто ставит оценки, находятся в вертикальных отношениях с маленьким человеком.
В 9-м классе у меня был домашний скандал, когда родителей вызвали в школу из-за моего сочинения по «Преступлению и наказанию», где я написал, что Раскольников правильно сделал то, что он сделал. Родителям тогда сказали: «Вы понимаете, кто у вас растет?» Я помню, как я переписывал это сочинение «правильно»: нужно было вернуть Раскольникова к правильному выводу, убрать Ницше, убрать Набокова оттуда. Разве это не трагедия маленького человека?
Как помочь ребенку полюбить книги
Варвара Бабицкая, редактор проекта «Полка»: Помню, у меня в детстве было две ролевые модели: Джейн Эйр и Сирано де Бержерак. Мне не мешало, что Сирано де Бержерак — мужчина, живший в другую эпоху и так далее. В его опыте было нечто универсальное, с чем я ощущала родство.
Тем не менее, конечно, я была очень благодарна за то, что есть Джейн Эйр, которая, как в «Гарри Поттере», сначала маленькая, десятилетняя девочка была. С ней легко эмоционально отождествиться и включиться в жизнь и этот текст. Так вот, если говорить о практической задаче «как приохотить человека к чтению», то, конечно, хочется показать больше текстов, апеллируя к понятному опыту, потому что у ребенка возникает эмоциональная связь с литературой.
Виктор Симаков, преподаватель словесности в «Новой школе»: В 80%, что ли, школ России используется учебник под редакцией Коровиных. Там биографии всех писателей даны. Они, в общем, все одинаковые: он любил родину, любил природу, любил читать, любил простых людей. В общем, они все одинаковые, они ничем не цепляют, эти авторы. Вот они действительно мертвые.
Когда это читаешь, возникает одно желание — отказаться вообще от биографии, просто идти сразу в текст и не останавливаться на авторе.
А дети должны понять, что авторы этих текстов такие же живые, как и мы. Они совершали ошибки, делали не самые красивые какие-то штуки, где-то были смешными, где-то были неправы, и это нормально для человека. Забронзовевшие памятники — это большое препятствие для того, чтобы они хоть что-то начали читать.
В моем идеальном представлении преподавание литературы должно исходить не из того, что есть некий набор текстов, который нам всем нужно пройти, а из того, о чем мы говорим, о чем я как учитель словесности говорю с детьми. Исходя из этого, для конкретного класса, для конкретного ребенка должен подбираться и внеклассный список, и список на лето, и те произведения, о которых мы будем говорить в этом году вот именно с этими детьми.
Эта дискуссия стала первой из серии круглых столов Storytel о самых актуальных культурных и литературных вопросах современности. Эксперты из разных областей будут собираться так раз в несколько месяцев и обсуждать главные темы из сферы своих профессиональных интересов.
Источник: mel.fm
10 причин ненавидеть уроки литературы
Писатель Ксения Букша поставила диагноз школьному предмету «литература»
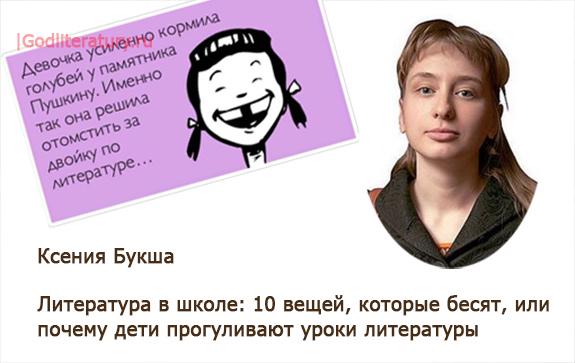
Текст: Наталья Лебедева/РГ
Чтение книг и уроки литературы в школе для многих детей и подростков — две параллельные реальности, которые не часто пересекаются. Потому что читают они те книги, которые нравятся и заставляют задуматься о себе и окружающем мире, а на уроки литературы многие ходят лишь для того, чтобы получить зачет за обязательное для всех выпускное сочинение.
Писатель, поэт и журналист Ксения Букша на портале mel.fm попыталась понять, почему за редким исключением литература остается одним из самых скучных предметов в школе. Ее 10 вещей, которые бесят на уроках литературы, конечно, субъективны, но диагноз современным образовательным стандартам поставлен верно. Вопрос только в том, готовы ли мы к переменам?
Ксения Букша
Литература в школе: 10 вещей, которые бесят
Почему дети прогуливают уроки литературы
Литература в школе — скучна и неинтересна. Если, конечно, вам не повезло и вдруг не попался хороший учитель, умеющий увлечь и выходить за рамки программы. Такие есть, но их мало. Чаще же школьные уроки по литературе навевают тоску: дети вместо Сервантеса или Ремарка читают Житие Сергия Радонежского, учителя делают из великих писателей мумий, книги которых после школы и открывать не хочется, а в итоге ЕГЭ по литературе выбирают лишь 5% учеников. 10 вещей, раздражающих в преподавании предмета, который, пожалуй, проще всего сделать интересным.
Я пишу романы. То есть какими бы они ни получались, плохими или хорошими, — занимаюсь я, как ни крути, чем-то вроде русской литературы. Однажды я даже принимала участие в составлении альтернативного учебника для 10-11 классов. Так что в качестве не только потребителя, но и производителя текстов не могу не высказаться по поводу того, что меня бесит в школьном предмете «литература».
Бесит многое, причём не только то, что есть, но и в ещё большей степени то, чего нет. И большинство раздражающих моментов — это системные баги.
Сделаю важную оговорку:
хороший учитель (и я такого видела) при любом раскладе может сделать словесность раем на Земле, отдушиной среди скучных школьных уроков.
Так было и в 50-е годы, и в 70-е, и так есть сейчас. Но если он, этот учитель, недостаточно силен, чтобы бороться с инерцией системы, то литература становится худшим предметом в расписании. И можно смело начинать ругаться.
1. Литература как сборник кейсов по психологии и этике
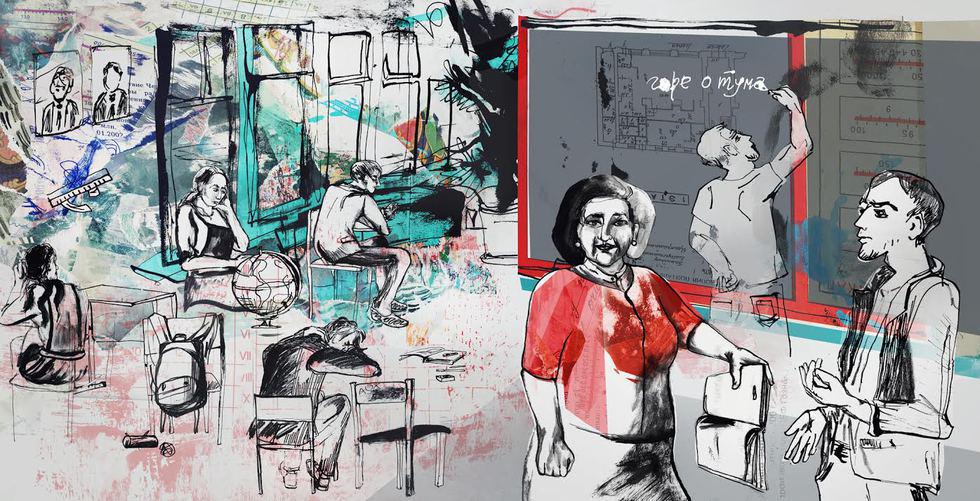
Во Франции или Англии, да и в других странах, подростки постоянно пишут эссе, в которых их побуждают подумать над актуальными вопросами сегодняшней жизни. В российской школе такое всегда считалось большим новаторством. В результате
единственный урок, на котором можно обсудить такие темы, как совесть, любовь, характер, добро и зло — это литература.
Бедные Базаров и Раскольников, Татьяна и лирический герой Маяковского становятся тренировочными куклами, на примере которых обсуждаются разнообразные этические и психологические вопросы. Замена неравноценная: все эти чуваки жили ужасно давно, а любовь штука хоть и вечная, но есть значительные нюансы. При этом эстетические вопросы и подавно задвигаются на второй план. А ведь они куда тоньше, интереснее и сами по себе отлично способствуют «воспитанию чувств».
2. Отсутствие зарубежной литературы
Зарубежной литературе в 7-9 классах во многих программах уделяется примерно пять часов. В год.
Шестой класс. Тут побольше. Подспорье истории древнего мира: по часу на мифы Древней Греции, Геродота и Гомера («Хитроумный Одиссей. Характер и поступки»). Час на «Дон Кихота» (думаете, что про рождение европейского романа? Или про чувство юмора? Боже упаси.
Про «человека, живущего в вымышленном мире» и «проблему ложных идеалов»). Одна радость: по три часа на «Маленького принца» и «Тома Сойера». Видимо, предполагается, что дети действительно их осилят от начала до конца — в отличие от Сервантеса.
Седьмой класс. Бёрнс, Байрон, хокку, О. Генри и. Расул Гамзатов. (На всех по часу. Костюмированный бал).
Восьмой класс. Два часа на Шекспира («Ромео. » и сонеты). Час на Мольера («Мещанин во дворянстве»). Час Свифта и час Скотта.
Девятый класс. Час на Данте Алигьери. Что можно сделать за час с Данте Алигьери? Два часа на «Гамлета». Два часа на «Фауста».
В десятом — ноль. В одиннадцатом — ноль.
Ладно — Бальзак, Дюма, Кафка, Стивен Кинг, ладно — Джойс и Борхес, хоть Ремарка бы с Сэлинджером почитать или Хемингуэя какого. Нет. Где нет берёзок, там ничего не пишут и не писали.
3. Засилье XIX века
Впрочем, Борхес не светит школьнику при любом раскладе. Потому что основная масса наследия, предлагаемого к изучению, относится к XIX и началу XX века. Почему именно к этому времени? Потому что
«основные принципы» изучения литературы, а с ними и кейсы, десятилетиями не меняются, а только подновляются.

Как дорога, на капитальный ремонт которой не хватает денег, и поэтому делают заплатки. Ну и потом 70-е и далее — это как-то слишком уж близко. Как-то проблематично слишком. Лучше про всё, что после войны (после молодости прадедов наших детей) — быстренько, скороговоркой. А то как бы чего не вышло.
В общем, даже если не поминать всуе Борхеса, если учитель сам не проявит какой-нибудь инициативы, захватывающей дух, даже эпизодические знания детей о русской литературе закончатся на Бродском.
4. «Программа» не стремится соблазнить чтением
Казалось бы, дети не читают. Что делать? Стремиться как угодно, но поразить их воображение и привлечь к этому делу — переворачиванию страниц. Многие начинают с Гарри Поттера и фэнтези, да им и заканчивают, потому что мало кому удаётся плавно «перевести ребёнка на общий стол». Надо ведь кропотливо подбирать: чуть сложнее, ещё чуть. чтобы только не соскочил.
Эту наркодилерскую работу могла бы проделать литература в школе. Не проделывает. Четвёртый класс начинается с Жития Сергия Радонежского и продолжается все той же классикой — почтенной, но не соблазнительной. Кроме сакраментальных Гека с Томом и Маленького принца, а также в пятом классе Джека Лондона и Стивенсона
мне не удалось обнаружить ни одного произведения, которое может быть хотя бы потенциально интересно изначально нечитающему школьнику.
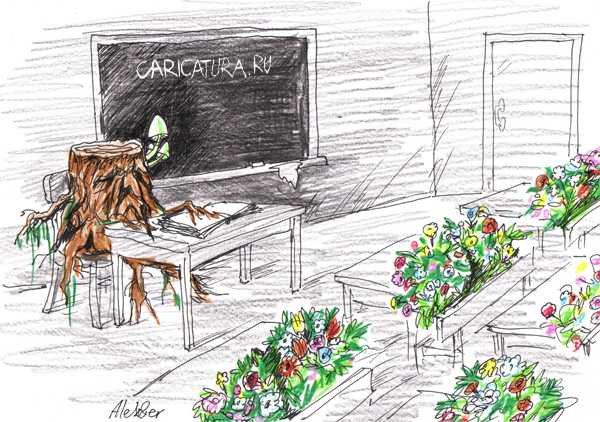
5. Программа выхолащивает своих «любимцев»
Вот да, всех этих везунчиков, которые попали в её шорт-лист вместо «Муми-троллей». Сначала их читают, чтобы просто научиться читать. «Смысловое чтение как осмысление цели чтения» — такая есть чудесная фраза в программе. Потом начинаются этические, исторические и композиционные разборы: «когда это написано», «как это сделано» и «кто хороший, а кто плохой».
То есть литература — отчасти придаток истории, отчасти — психологии, а оставшуюся треть времени школьникам наскоро «всухомятку» рассказывают про разные жанры и композиции. До того, как на самом деле устроен художественный текст, руки почти никогда не доходят.
Вот Пьер Безухов, например, эта сцена, в которой он считает буквы в своём имени, старательно подгоняя результат под идею о своей великой миссии, — это смешно? Только смешно или что-то ещё? Где, в чём улыбка, в каких словах прячется, как это сделано? А где ещё Толстой подмигивает нам таким образом? А что это значит?
А кто ещё нам так подмигивал?
6. Мумия Пушкина
Особенно хочется сказать про Александра Сергеевича. Сверчок в нашей школе — главный пострадавший. И страдает он именно по причине своего универсализма, всеохватности и умения по-светски болтать на любые темы. В Пушкине, к сожалению, можно найти кейсы обо всём и любого уровня сложности, что делает его лёгкой добычей русичек всей Руси Великой. В результате раздёрганность Пушкина на «темы» приобретает анекдотический характер, да и сам он сводится к какому-то анекдоту. Всё это началось не вчера, но
чем дальше отъезжает от нас Пушкин, тем меньше шансов его для детей оживить.

7. Учитель не читает вслух
Даниэль Пеннак «Как роман» — в этой уже не очень новой книжке описан отличный простой способ заинтересовать детей чтением: читать им вслух. Целые большие книжки, от урока к уроку. В любом возрасте. Я лично проверяла этот способ на группе детишек 10-11 лет — он работает. Почему им мало кто пользуется? Потому что пусть сами читают, не маленькие.
Потому что произведения школьной программы не вызовут бурного интереса. Потому что времени нет, а есть поурочный план. Потому что
читать — не главное, а главное — «разбирать».
8. Литература нужна только 5% выпускников
Вся школьная жизнь, особенно последние два-три года, отдана подготовке к ЕГЭ. Ну а кому нужен ЕГЭ по литературе? Филологам и учителям. Значит,
большинство детей вообще перестают ею заниматься — как раз тогда, когда они становятся в силах понять сложные вещи.
Тут-то бы и начать что-нибудь «разбирать», но мотивация утеряна, а времени нет.
9. Можно вообще не читать
Этого ненужного занятия можно избежать.
Не научиться читать — да, практически нереально, всё-таки проверяют скорость чтения. В одном блоге, посвящённом рассказу о приёмной дочери, автор писала, что когда она попросила 11-летнюю девочку, до того жившую в обычной, не слишком культурной семье, и ходила в «нормальную» провинциальную школу, почитать — та принесла вместе с книжкой будильник. «Ну как же? — искренне удивилась она, — как скорость мерить без часов?» При этом понять словосочетание «Ходжа Насреддин» она не могла. Картина вполне обыкновенная, ничего особенного.

10. Не прививают ни умение работать с текстом, ни умение его конструировать
Поколение сегодняшних школьников — в его незаброшенной, незапущенной части — пишет столько, сколько и не снилось ни одному поколению до них. Это поколение текста.
Они общаются текстами. Они бы и сами могли словесников своих писать поучить. Их язык энергичен, нередко интуитивно мощен, многие из них от природы талантливо пишут о том, что им интересно. Да-да, и композицию строят, и убедить могут. А какой язык сейчас в соцсетях и на форумах попадается — дух захватывает. Всё в кучу, всё живо и порой прекрасно (а иногда тупо и уныло, да).
Ах, если бы ещё и обогатить, оплодотворить это текстовое поколение интересом к разным культурам текста, разным способам выражения мыслей, поощрить умение мыслить нешаблонно и отвратить от простых и готовых решений. Эх.
Источник: godliteratury.ru
Недостатки школьной программы по литературе
Проблема литературного образования в современной школе всегда была актуальной. В наш век глобальных перемен книга утрачивает свое первостепенное значение. Поговорим о литературном образовании и выявим некоторые главные проблемы.
Одна из самых главных проблем – это чтение и анализ литературного произведения. Дети, к огромному сожалению, переходя из начальной школы в среднее звено, имеют очень низкий темп чтения. Умение быстро, вдумчиво читать сказывается на качестве изучения литературного произведения. Следовательно, они не понимают содержания произведения, им становится неинтересно.
Немаловажную роль в обучении играет адаптация ребенка в среднем звене. Ребенок на протяжении всего первого полугодия привыкает к требованиям разных учителей, появляется много разных предметов. У ребенка повышается уровень тревожности. Очень важно заинтересовать школьника литературой, подобрать интересные книги, провести викторины, веселые игры и конкурсы, создавать ситуацию успеха на уроке и во внеурочное время.
Другой важной проблемой является незаинтересованность самих родителей в успехах детей в школе, в частности родители не уделяют внимания чтению ребенка. С каждым годом наблюдается такая негативная тенденция: дети приходят после летних каникул с непрочитанной литературой. Хорошо, если они прочитают две-три книги.
На региональном уровне мы выявили проблемы, на которые нельзя не обратить внимания.
Например, мне, учителю русского языка и литературы в одной из школ Сычевского района удалось опросить 20 детей на предмет любимого произведения. 4 ребенка вспомнили, какие сказки им читали родители в детстве. Все остальные ответили, что ничего такого не помнят. Видимо, их мамы, папы, бабушки, и дедушки не озабочены созданием хорошей домашней библиотеки и не стремятся повышать свой образовательный уровень. А когда-то Россия была одной из самых читающих стран.
А впереди сдача экзаменов по ОГЭ, ЕГЭ и устное собеседование. Некоторые произведения изучаются быстро, проводится ознакомительная обзорная работа с биографиями прозаиков и поэтов. Вот поэтому мы получаем не читающих литературу детей, не умеющих воспроизводить информацию. При малом количестве учебного времени, отведенного на литературу, особо важную роль играет дальнейшее развитие и верное соотношение форм изучения этого предмета. Литература развивает творческие способности ребенка, заставляет его думать и высказывать свои мысли, прививает личную культуру и воспитывает патриотизм.
Важно вырастить образованного, достойного человека – это задача школы и семьи. Чтение – это функциональное, базовое умение для образования и жизни в современном обществе, это механизм поддержания и развития родного языка. Однако, как показал анализ литературы по данной теме, во всем мире отмечаются общие тенденции: падение престижа чтения и сокращение времени, уделяемого чтению; ухудшение навыков чтения. Чтение стало в значительной степени ориентировано на информационно-прагматические потребности .
Существует несколько подходов. Один из них духовный подход. В этой школе широко используется материал религиозного содержания: молитвы, жития святых, духовная музыка, церковные песнопения.
Следующий подход – культурно-образовательный, в который максимально включен образовательный, этнографический и исторический материал.
Третье направление этой школы делает акцент на формирование у учащихся современного отношения к культурному наследию как фактору развития России.
Одна из главных задач, которые они поставили, – это совершенствование взаимоотношений участников педагогического процесса, которые основываются на соборности, сотрудничестве, сотворчестве, соразвитии. Этому должна способствовать хорошая система образования.
Полагаю, что все это и является залогом формирования образованного и высоконравственного, преданного России человека.
Использованная литература и ссылки на электронные ресурсы:
Дубинин Б.В., Зоркая Н.А. Чтение в России – 2008. Тенденции и проблемы. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2008. – 80 с.
Дубинин Б.В., Зоркая Н.А. Чтение в России – 2008. Тенденции и проблемы. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2008. – 80 с.
Когда я закончил школу и выпустился с 9 класса в моей копилке прочитанных книг была лишь одна. Я не преувеличиваю! Серьезно, до 15 лет я прочитал всего одну книгу. Даже помню какую, Толстой — Кавказский пленник , и то, мне было скучно на уроке истории (про историю тоже обязательно сделаю статью, но чуть позже).
Сейчас мне 26 и за моими плечами более трехсот прочитанных книг, около сотни написанных мной эссе, рассказов и стихов ( если интересно, можете почитать моё творчество ту т). Первую книгу после школы я взял в руки в 17 лет. С тех пор это моя страсть. Я уходил в книжные запои, читал по книге в день, сейчас стараюсь читать минимум одну книгу в неделю.
Так почему же так происходит, что в школе литература абсолютно не интересна? Давайте разберёмся.
Причины по которым школьнику не интересна школьная литература:
Подавление инициативы.
Что имеется ввиду? Это касается все школьной системы.
Все школьные годы наше мышление пытаются отточить под один стандарт: не слишком громкий, не слишком тихий, нигде не высовывается, не высказывает своё мнение. Если ваш ребёнок чем-то отличается от остальных, а надо сказать, что каждый ребёнок особенный по своему , то это очень жёстко пресекается. «Ты что, тут самый умный», «Ты считаешь, что ты лучше остальных?», знакомо, не правда ли?
Т.е. ребёнок со школы боится выражать своё мнение, ибо, » ты такой же как и все, не думай, что ума палата .»
Разберём на примере литературы: Нету ни одного человека, которому одновременно бы нравились все авторы школьной программы, а их десятки, а то и сотни. Когда я сказал своей учительнице по литературе, что я не могу читать Тургенева, что я считаю, что он слишком уж много бессмысленных слов пишет, она вызвала в школу моего отца, и так во всём, если ты отличаешься чем-то, то учителя это не оценят, а скорее наоборот. Идиотизм? Идиотизм!
Что хотел сказать/что имел ввиду автор?
Вы уже начали вспоминать свой урок литературы, не так ли?
Я думаю не стоит слишком подробно разбирать этот пункт, я думаю вы прекрасно понимаете о чём я.
Лиши добавлю два своих соображения:
Во-первых , автор жил в позапрошлом столетии, где у вещей, слов, метафор, был отличный смысл от современного, очень маловероятно, что в школьном учебнике написан именно те мысли которые автор вкладывал в строчку «белые бантысиние сиренирозовые розыфиолетовые обои».
Во-вторых , я сам являюсь автором и что немаловажно, не думаю, что даже самый умный филолог сможет понять, что я имел ввиду, не пообщавшись со мной лично, некоторые мои строчки на 100% понимаю только я. В этом нет никакой проблемы, авторы делают ставку на общую картину произведения, что бы было понятен общий смысл книгирассказаэссестиха. Отдельная строчка не может служить предметом дискуссии, это всегда вырвано из контекста.
Разные вкусы преподавателей и учеников.
Это музыка отвратительная, потому что я люблю другую. Этот фильм ужасен, потому что мне нравится другой. Это блюдо невкусное, потому что мне не нравится.
Если вы читаете отличающуюся от школьной литературу, это почему-то не считается, вы должны читать только то, что вам написало министерство образования, и ничего больше!
Книги про космические войны, это хлам, книги про то как молодой мальчик убивает бабушку, ради квартиры, это классика. Двойные стандарты? Как и всегда!
Отсутствие какого-либо интереса.
Родители , неужели вы думаете, что ребёнкуподростку 10-16 лет интересная русская классическая литература? Что может быть интересного для школьника в книгах «Идиот», «Война и мир», «Муму» и т.д.
Русская классическая литература, это скорее для взрослых людей с определённой исторической базой знаний.
Школьник не может себя и происходящее вокруг себя ассоциировать с тем, что написано в книга позапрошлого века. Поэтому, он просто, бездумно, бессмысленно читает горы литературы, абсолютно не вникая в неё. И чем дальше, тем меньше интереса к данному предмету.
Отсутствие современных авторов.
Я считаю, нет. Я настаиваю на том, что, в современной России хорошей литературы найдётся не меньше, чем в классической. А современная литература, это актуально, это то, что происходит в наши дни, это написано современным, живым языком. Это, то что поймёт школьник!
Пелевин, Акунин, Сорокин, Довлатов, ничем не хуже классических авторов.
Борис Рыжий, Марина Кацуба, Ваня Пинженин, — ничем не хуже классических поэтов.
Я скажу вам ещё радикальнее , есть даже современные рэперы, которых можно назвать поэтами, например Noize mc, Заги Бок, Фьюз, Смоки Мо, Баста, Каста, Триада и так далее.
Неадекватная реакция родителей.
Ваш ребенок получил двойку за сочинение например по книге Достоевского.
Что вы делаете в первую очередь?
Ругаете ребенка, компьютер, лишаете интернета, отбираете смартфон.
И заставляете читать очередной огромный том до полуночи? Надо ли объяснять, что кроме ещё большей ненависти к литературе, у ребенка появится недоверие ещё и к родителям? Думаю не стоит. Это надо чётко понимать.
Вывод из вышесказанного:
Если вашему ребенку неинтересна школьная программа по литературе, то не надо пытаться агрессивно заставлять проявлять к ней искусственный интерес, лучше пробуйте понять и сделать нижесказанные рекомендации.
Во-первых показать, что вы его понимаете и по прежнему любите, ребёнку очень важно знать, что его любят, уважают и понимают.
Во-вторых , вы можете предложить ему более современную литературу, и тогда этот предмет станет даваться ему легче и проще, ведь, если ты прочитал 10 интересных книг, то не проблема прочитать что-то из школьной повестки, у тебя уже есть какай то опыт в прочтении. НО опять же без давления и агрессии.
В-третьих , школьные оценки после школы, ничего не значат и никак не помогают в дальнейшей жизни. Чем взрослее я становлюсь тем ярче это видно. Если вместо того, что бы фокусироваться на зубрежке, ваш ребенок будет развиваться в любимом направлении, ему никогда в жизни не придется работать. И вы, должны ему в этом помочь.
Ребёнок которому помогают развиваться в любимом направлении, будет лучше учится в школе, это очевидно!
Для чего нужна литература в школе
Оксана Васякина, писательница, феминистка, лауреат различных литературных премий: Когда я ехала в такси, я думала про литературу как про репрессивную машину, потому что, помимо того что нас все время учили (по крайней мере, меня учили) переучиваться с левши на правшу, по сути, тот канон, та программа, все те штуки, которые мы с вами обсуждаем, работают на то, чтобы нас всех сделать одинаковыми людьми. Мы же еще выросли в аналоговую эпоху, у нас не было интернета, у нас не было ничего, кроме телика и плохой библиотеки. Действительно, очень сложно было противостоять этому однообразию. Сейчас дети намного сложнее и намного разнообразнее.
Что читают современные школьники
Кто-то существует в контексте аниме, кто-то существует в контексте фанфиков. У них нет объединяющего начала, чтобы все смотрели одни и те же фильмы, слушали одну и ту же музыку, говорили об одном и том же, пользовались одними и теми же цитатами.
И ничего трагического, кажется, с национальным сознанием от этого не произошло. Оттого, что стало больше разнообразия и меньше единообразия, оттого, что люди стали одеваться не в одинаковые одежды, а в разные, читать не одни и те же книги, а разные, никакой духовной катастрофы не случилось.
Чему классика может научить наших детей
Поэтому учить литературу можно только через обучение взаимодействию с текстом: как понимать текст, как распознавать его и пытаться с ним дискутировать. Других функций в наше время у русской литературы, по-моему, нет.
Что не так со школьной программой
Константин Мильчин: М ы отдаем себе отчет в том, что школьная программа немножечко устарела, она была придумана в те времена, когда дискуссии о том, как должно быть устроено общество и будущее, не были столь яркими и яростными, как сейчас. Не было таких задач по изменению общества, по созданию его нового лика. Нынешняя школьная программа, безусловно, не отражает гендерного, этнического, прочего состава общества.
Оксана Васякина: Давайте хотя бы сбалансируем гендерный состав. К Пушкину поставим Ростопчину, например, или Каролину Павлову.
Я преподаю неподцензурную советскую поэзию, соответственно, я параллельно объясняю: этих женщин из списка мне пришлось просто вытаскивать за волосы из антологии неподцензурной советской поэзии. Их там всего лишь две или три было. Елена Шварц, естественно, великая Седакова.
Всех невеликих женщин просто смыло волной истории. А всех невеликих мужчин, например, оставили
На эту критику уходит достаточно много сил. Это бесконечное проговаривание, бесконечные ответы на подвешенные вопросы. Это и гендерный вопрос, и социальный вопрос, и политический вопрос, это часть интерпретации тоже.
Как помочь ребенку полюбить книги
А дети должны понять, что авторы этих текстов такие же живые, как и мы. Они совершали ошибки, делали не самые красивые какие-то штуки, где-то были смешными, где-то были неправы, и это нормально для человека. Забронзовевшие памятники — это большое препятствие для того, чтобы они хоть что-то начали читать.
В моем идеальном представлении преподавание литературы должно исходить не из того, что есть некий набор текстов, который нам всем нужно пройти, а из того, о чем мы говорим, о чем я как учитель словесности говорю с детьми. Исходя из этого, для конкретного класса, для конкретного ребенка должен подбираться и внеклассный список, и список на лето, и те произведения, о которых мы будем говорить в этом году вот именно с этими детьми.
Эта дискуссия стала первой из серии круглых столов Storytel о самых актуальных культурных и литературных вопросах современности. Эксперты из разных областей будут собираться так раз в несколько месяцев и обсуждать главные темы из сферы своих профессиональных интересов.
Не меньше, чем родители, на становление читателя влияет школа. Влияет она и на представления общества о читательской норме. Вырастая, люди за редкими исключениями забывают о том, как учились сами, как читали через силу или отказывались от чтения, как ненавидели поиск метафор и эпитетов, и солидаризируются с учителями.
Прежде всего, на идее, что есть менее ценные и более ценные книги, менее обязательные и более обязательные. И есть святое — список школьной литературы, канон. В него входят совсем не детские произведения, но именно они с 5-го по 11-й класс составляют основной круг чтения школьника (попробуй успеть на фоне общей нагрузки взяться за что-нибудь еще!) и превращаются в настоящую читательскую повинность.
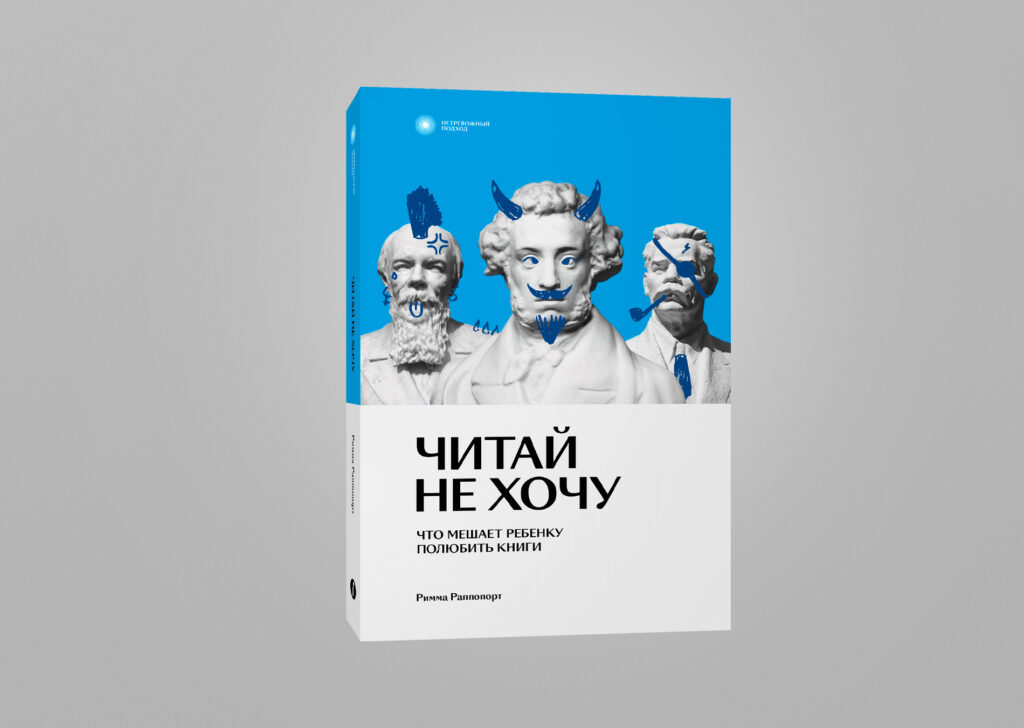
Если тексты не читают, а лишь поверхностно знают, то и культурный код формируется условный, мифический. Происходит подмена общего культурного кода на общий культурный миф о литературных ценностях, объединяющих граждан.
Помню, что уже в начальной школе мне не хотелось читать неинтересное (таковыми были разные славянские песни, мифы или советские приключения), я поняла: можно скользнуть глазами по странице и понять, в чем там дело. Я научилась изворачиваться.
Влада, 16 лет, Красноярск
Где, как не на уроках литературы, развивать критическое мышление, аналитические навыки, воспитывать дух сомнения? Вместо этого литература в школе формирует мифологическое сознание.