Футуризм (от лат. futurum — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х гг. XX в., прежде всего в Италии и России.
В отличие от акмеизма, футуризм как течение в отечественной поэзии возник отнюдь не в России. Это явление целиком привнесенное с Запада, где оно зародилось и было теоретически обосновано. Родиной нового модернистского движения была Италия, а главным идеологом итальянского и мирового футуризма стал известный литератор Филиппо Томмазо Маринетти (1876-1944), выступивший 20 февраля 1909 года на страницах субботнего номера парижской газеты «Фигаро» с первым «Манифестом футуризма», в котором была заявлена «антикультурная, антиэстетическая и антифилософская» его направленность.
В принципе, любое модернистское течение в искусстве утверждало себя путем отказа от старых норм, канонов, традиций. Однако футуризм отличался в этом плане крайне экстремистской направленностью. Это течение претендовало на построение нового искусства — «искусства будущего», выступая под лозунгом нигилистического отрицания всего предшествующего художественного опыта. Маринетти провозгласил «всемирно историческую задачу футуризма», которая заключалась в том, чтобы «ежедневно плевать на алтарь искусства».
Серебряный век. Поэты, мистики, бунтари
Футуристы проповедовали разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом XX века. Для них характерно преклонение перед действием, движением, скоростью, силой и агрессией; возвеличивание себя и презрение к слабому; утверждался приоритет силы, упоение войной и разрушением. В этом плане футуризм по своей идеологии был очень близок как правым, так и левым радикалам: анархистам, фашистам, коммунистам, ориентированным на революционное ниспровержение прошлого.
Манифест футуризма состоял из двух частей: текста-вступления и программы, состоявшей из одиннадцати пунктов-тезисов футуристической идеи. Милена Вагнер отмечает, что «в них Маринетти утверждает радикальные изменения в принципе построения литературного текста — «разрушение общепринятого синтаксиса»; «употребление глагола в неопределенном наклонении» с целью передачи смысла непрерывности жизни и упругости интуиции; уничтожение качественных прилагательных, наречий, знаков препинания, опущение союзов, введение в литературу «восприятия по аналогии» и «максимума беспорядка» — словом, все, направленное к лаконичности и увеличению «быстроты стиля», чтобы создать «живой стиль, который создается сам по себе, без бессмысленных пауз, выраженных запятыми и точками». Все это предлагалось как способ сделать литературное произведение средством передачи «жизни материи», средством «схватить все, что есть ускользающего и неуловимого в материи», «чтобы литература непосредственно входила во вселенную и сливалась с нею»…
Слова футуристических произведений полностью освобождались от жестких рамок синтаксических периодов, от пут логических связей. Они свободно располагались в пространстве страницы, отвергая нормативы линейного письма и образуя декоративные арабески или разыгрывая целые драматические сцены, построенные по аналогии между формой буквы и какой-либо фигурой реальности: гор, людей, птиц и т. д. Таким образом, слова превращались в визуальные знаки.
Серебряный век, как различать поэзию модернизма | Символизм, Акмеизм, Футуризм
Заключительный, одиннадцатый пункт «Технического манифеста итальянской литературы» провозглашал один из важнейших постулатов новой поэтической концепции: «уничтожить Я в литературе».
«Человек, совершенно испорченный библиотекой и музеем <. >не представляет больше абсолютно никакого интереса… Нас интересует твердость стальной пластинки сама по себе, то есть непонятный и нечеловеческий союз ее молекул и электронов… Теплота куска железа или дерева отныне более волнует нас, чем улыбка или слеза женщины».
Текст манифеста вызвал бурную реакцию и положил начало новому «жанру», внеся в художественную жизнь возбуждающий элемент — кулачный удар. Теперь поднимающийся на сцену поэт стал всеми возможными способами эпатировать публику: оскорблять, провоцировать, призывать к мятежу и насилию.
Футуристы писали манифесты, проводили вечера, где манифесты эти зачитывались со сцены и лишь затем — публиковались. Вечера эти обычно заканчивались горячими спорами с публикой, переходившими в драки. Так течение получало свою скандальную, однако очень широкую известность.
Учитывая общественно-политическую ситуацию в России, зерна футуризма упали на благодатную почву. Именно эта составляющая нового течения была, прежде всего, с энтузиазмом воспринята русскими кубофутуристами в предреволюционные годы. Для большинства из них «программные опусы» были важнее самого творчества.
Хотя прием эпатажа широко использовался всеми модернистскими школами, для футуристов он был самым главным, поскольку, как любое авангардное явление, футуризм нуждался в повышенном к себе внимании. Равнодушие было для него абсолютно неприемлемым, необходимым условием существования являлась атмосфера литературного скандала. Преднамеренные крайности в поведении футуристов провоцировали агрессивное неприятие и ярко выраженный протест публики. Что, собственно, и требовалось.
Русские авангардисты начала века вошли в историю культуры как новаторы, совершившие переворот в мировом искусстве — как в поэзии, так и в других областях творчества. Кроме того, многие прославились как великие скандалисты. Футуристы, кубофутуристы и эгофутуристы, сциентисты и супрематисты, лучисты и будетляне, всеки и ничевоки поразили воображение публики. «Но в рассуждениях об этих художественных революционерах,- как справедливо отмечено А. Обуховой и Н. Алексеевым,- часто упускают очень важную вещь: многие из них были гениальными деятелями того, что сейчас называют «промоушн» и «паблик рилэйшнз». Они оказались провозвестниками современных «художественных стратегий» — то есть умения не только создавать талантливые произведения, но и находить самые удачные пути для привлечения внимания публики, меценатов и покупателей.
Футуристы, конечно, были радикалами. Но деньги зарабатывать умели. Про привлечение к себе внимания с помощью всевозможных скандалов уже говорилось. Однако эта стратегия прекрасно срабатывала и во вполне материальных целях. Период расцвета авангарда, 1912-1916 годы — это сотни выставок, поэтических чтений, спектаклей, докладов, диспутов.
А тогда все эти мероприятия были платными, нужно было купить входной билет. Цены варьировались от 25 копеек до 5 рублей — деньги по тем временам очень немалые. [Учитывая, что разнорабочий зарабатывал тогда 20 рублей в месяц, а на выставки порой приходило несколько тысяч человек.] Кроме того, продавались и картины; в среднем с выставки уходило вещей на 5-6 тысяч царских рублей.
В прессе футуристов часто обвиняли в корыстолюбии. Например: «Нужно отдать справедливость господам футуристам, кубистам и прочим истам, они умеют устраиваться. Недавно один футурист женился на богатой московской купчихе, взяв в приданое два дома, экипажное заведение и… три трактира. Вообще декаденты всегда как-то „фатально“ попадают в компанию толстосумов и устраивают возле них свое счастье…».
Однако в своей основе русский футуризм был все же течением преимущественно поэтическим: в манифестах футуристов речь шла о реформе слова, поэзии, культуры. А в самом бунтарстве, эпатировании публики, в скандальных выкриках футуристов было больше эстетических эмоций, чем революционных. Почти все они были склонны как к теоретизированию, так и к рекламным и театрально-пропагандистским жестам. Это никак не противоречило их пониманию футуризма как направления в искусстве, формирующего будущего человека,- независимо от того, в каких стилях, жанрах работает его создатель. Проблемы единого стиля не существовало.
«Несмотря на кажущуюся близость русских и европейских футуристов, традиции и менталитет придавали каждому из национальных движений свои особенности. Одной из примет русского футуризма стало восприятие всевозможных стилей и направлений в искусстве. «Всечество» стало одним из важнейших футуристических художественных принципов.
Русский футуризм не вылился в целостную художественную систему; этим термином обозначались самые разные тенденции русского авангарда. Системой был сам авангард. А футуризмом его окрестили в России по аналогии с итальянским». И течение это оказалось значительно более разнородным, чем предшествующие ему символизм и акмеизм.
Это понимали и сами футуристы. Один из участников группы «Мезонин поэзии», Сергей Третьяков писал: «В чрезвычайно трудное положение попадают все, желающие определить футуризм (в частности литературный) как школу, как литературное направление, связанное общностью приемов обработки материала, общностью стиля. Им обычно приходится плутать беспомощно между непохожими группировками <. >и останавливаться в недоумении между «песенником-архаиком» Хлебниковым, «трибуном-урбанистом» Маяковским, «эстет-агитатором» Бурлюком, «заумь-рычалой» Крученых. А если сюда прибавить «спеца по комнатному воздухоплаванию на фоккере синтаксиса» Пастернака, то пейзаж будет полон. Еще больше недоумения внесут «отваливающиеся» от футуризма — Северянин, Шершеневич и иные… Все эти разнородные линии уживаются под общей кровлей футуризма, цепко держась друг за друга!
Дело в том, что футуризм никогда не был школой и взаимная сцепка разнороднейших людей в группу держалась, конечно, не фракционной вывеской. Футуризм не был бы самим собою, если бы он наконец успокоился на нескольких найденных шаблонах художественного производства и перестал быть революционным ферментом-бродилом, неустанно побуждающим к изобретательству, к поиску новых и новых форм.
<. >Крепкозадый буржуазно-мещанский быт, в который искусство прошлое и современное (символизм) входили, как прочные части, образующие устойчивый вкус безмятежного и беспечального, обеспеченного жития,- был основной твердыней, от которой оттолкнулся футуризм и на которую он обрушился. Удар по эстетическому вкусу был лишь деталью общего намечавшегося удара по быту. Ни одна архи-эпатажная строфа или манифест футуристов не вызвали такого гвалта и визга, как раскрашенные лица, желтая кофта и ассиметрические костюмы. Мозг буржуа мог вынести любую насмешку над Пушкиным, но вынести издевательство над покроем брюк, галстука или цветком в петличке — было свыше его сил…».
Поэзия русского футуризма была теснейшим образом связана с авангардизмом в живописи. Не случайно многие поэты-футуристы были неплохими художниками — В. Хлебников, В. Каменский, Елена Гуро, В. Маяковский, А. Крученых, братья Бурлюки. В то же время многие художники-авангардисты писали стихи и прозу, участвовали в футуристических изданиях не только в качестве оформителей, но и как литераторы. Живопись во многом обогатила футуризм. К. Малевич, П. Филонов, Н. Гончарова, М. Ларионов почти создали то, к чему стремились футуристы.
Впрочем, и футуризм кое в чем обогатил авангардную живопись. По крайней мере, в плане скандальности художники мало в чем уступали своим поэтическим собратьям. В начале нового, XX века все хотели быть новаторами. Особенно художники, рвавшиеся к единственной цели — сказать последнее слово, а еще лучше — стать последним криком современности.
И наши отечественные новаторы, как отмечается в уже цитированной статье из газеты «иностранец», стали использовать скандал как полностью осознанный художественный метод. Скандалы они устраивали разные, варьировавшиеся от озорно-театральных выходок до банального хулиганства. Живописец Михаил Ларионов, к примеру, неоднократно подвергался аресту и штрафу за безобразия, творимые во время так называемых «публичных диспутов», где он щедро раздавал оплеухи несогласным с ним оппонентам, кидался в них пюпитром или настольной лампой…
В общем, очень скоро слова «футурист» и «хулиган» для современной умеренной публики стали синонимами. Пресса с восторгом следила за «подвигами» творцов нового искусства. Это способствовало их известности в широких кругах населения, вызывало повышенный интерес, привлекало все большее внимание.
История русского футуризма являла собой сложные взаимоотношения четырех основных группировок, каждая из которых считала себя выразительницей «истинного» футуризма и вела ожесточенную полемику с другими объединениями, оспаривая главенствующую роль в этом литературном течении. Борьба между ними выливалась в потоки взаимной критики, что отнюдь не объединяло отдельных участников движения, а, наоборот, усиливало их вражду и обособленность. Однако время от времени члены разных групп сближались или переходили из одной в другую.
Основные признаки футуризма:
— бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы;
— отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремленное в будущее;
— бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат;
— поиски раскрепощенного «самовитого» слова, эксперименты по созданию «заумного» языка;
— культ техники, индустриальных городов;
— пафос эпатажа.
Источник: poetrysilver.ru
Русский футуризм
Русский футуризм первоначально возник как школа в живописи, а своё название получил от латинского futurum – будущее. С началом русского литературного футуризма связывают возникновение в 1909 году группы художников и поэтов «Гилея» («Будетляне»).
Если истоки символизма были связаны с французской литературой, то исток русского футуризма — это итальянская авангардистская поэзия начала 20 века, связанная с именем Филиппо Маринетти. Именно в его манифесте, опубликованном в феврале 1909 года, впервые появилось слово «футуризм». В своем манифесте Маринетти писал: « Нет шедевров без агрессивности. Мы хотим прославить войну – единственную гигиену мира, разрушить музеи, библиотеки ». Маринетти призывал разрушить синтаксис, отменить знаки препинания, отказаться от того, чтобы быть понятым. Свой манифест он заканчивал так: « Будем смело творить «безобразное» в литературе. Надо ежедневно плевать на Алтарь искусства ».

В русском литературном футуризме обозначились три течения: эгофутуризм и кубофутуризм, отдельное явление составила футуристическая группа «Центрифуга».
Группу эгофутуристов , в которую вошли поэты Константин Олимпов, Иван Игнатьев и Георгий Иванов, возглавлял Игорь Северянин (1887-1941; настоящая фамилия — Лотарёв). Творчество эгофутуристов было скорее плохим подражанием акмеизму, поэтому эгофутуризм оказался течением бесплодным. Быстро набравший популярность Северянин вскоре отделился от возглавляемой им группы, издал несколько сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Златолира», «Поэзоантракт», «Поэзоконцерт». Его выступления принесли ему огромную славу и беспрецедентное поклонение со стороны публики, особенно женской. Рафинированность ощущений, мелодичность, напевность стихов, демонстративное себялюбие — вот характерные черты эгофутуристической поэзии.
Кубофутуризм воспринял некоторые идеи итальянского футуризма, но отказался от чрезмерной агрессивности. В русском футуризме было скорее бунтарское начало, нежели агрессивное.

В группу кубофутуристов «Гилея» вошли основатель кубофутуризма Давид Бурлюк, поэты Велимир Хлебников, Алексей Кручёных, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Елена Гуро. Они выступили со сборниками «Садок судей» (1910), «Пощёчина общественному вкусу» (1912), «Дохлая луна» (1913).
В предисловии к сборнику «Пощёчина общественному вкусу», которое подписали Бурлюк, Кручёных, Маяковский и Хлебников, говорилось: « Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с Парохода Современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней ». Это был бунт против всех поэтических норм и традиций в искусстве. Свою задачу футуристы видели не только в том, чтобы поразить воображение читателя, но и передать общую атмосферу современной жизни с её убыстряющимися темпами.

С сайта www.ruskerealie.zcu.cz
Для эстетики кубофутуризма было характерно :
Деформируя действительность, футуристы стремились подчеркнуть дисгармонию мира. Однако энергия разрушения привела к тому, что искусство футуризма стало носить античеловеческий характер. Слишком радикальные высказывания футуристов отпугивали широкого читателя, а «заумный язык», который они изобретали, так и не стал языком будущего. Футуристы хотели пройти от нуля к бесконечности, но прошли обратный путь, потому что человек без прошлого напоминает бабочку-однодневку, родившуюся на заре и умирающую к вечеру.
С 1913 по 1917 годы существовала группа поэтов «Центрифуга» , составившая третье, последнее течение в русском футуризме. Яркими представителями этого течения были начинающие поэты Борис Пастернак и Николай Асеев. В центре внимания поэтов «Центрифуги» было не само слово, а нестандатные синтаксические и ритмические структуры.
В 1917 году русский футуризм тихо скончался, не оставив наследника.
Из поэтов, связанных с футуризмом, в «большой литературе» остались только В.В. Маяковский и Б.Л. Пастернак.
* Заумь, или заумный язык — это попытка не уничтожить язык, а наоборот, максимально его семантизировать. Велимир Хлебников предполагал, что создание заумного языка позволит разложить язык на элементы и создать «что-то вроде закона Менделеева». Заумь исходила из двух предпосылок: 1) «первая согласная слова управляет всем словом, приказывает остальным»; 2) слова, начинающиеся с одной и той же согласной, объединяются каким-то общим понятием. Например, слова, начинающиеся с Ч, по мнению Хлебникова, обозначают «одно тело в оболочке другого»: чашка, чан, череп, чулок. Хлебников верил, что заумный язык сможет стать языком будущего и объединит всех людей.
** Велимир Хлебников. Заклятие смехом
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево!
Усмей, осмей, смешики, смешики!
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов разрешено только при обязательном указании автора и прямой гиперссылки с разрешения администрации сайта.
Авторы не высылают ответы на размещённые на сайте вопросы .
Источник: mosliter.ru
Поэты-футуристы
Футуризм (от латинского футурум – будущее) – течение авангардного искусства 1910-х – начала 1920-х годов. Уже из названия ясно, что оно подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим. Футуристы ставили перед собой цель разрушить старую литературную традицию и сформировать новую эстетику. Они отказывались от символистической недосказанности и первыми в отечественной культуре провозгласили искусство «для масс». Поэты-приверженцы футуризма, нестандартно мыслящие талантливые личности, подчёркивали ускорение темпа жизни, всесмерно приветствовали индустриализацию среды как приметы новой, грядущей эры.
Становление футуризма относится к 1910 году и выходу программного сборника «Садок судей». Футуризм, как и его типичные представители, не был однородным, однозначным: в нем существовали разные направления и группы.

Бурлюк Давид Давидович (1882 – 1967) относится к радикальному крылу футуристов. Его без преувеличения можно назвать крестным отцом, основоположником и «пиар-менеджером» этой группы, открывателем таланта В. В. Маяковского. Творческое кредо Бурлюка – разрушение старого искусства, отрицание гармонии, предельная деэстетизация творчества и примат формы, а не содержания.
Этот «жирный человек», как назвал его Владимир Владимирович, обладал колоссальной работоспособностью, живым характером и неиссякаемой энергией. Даже искусственный глаз он сделал частью своего стиля. В 1911 – 1914 г.г. учился вместе с В. В. Маяковским в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Явился соавтором и вдохновителем футуристических сборников «Садок судей», «Пощёчина общественному вкусу».
После революции, боясь преследований за связи с анархистами, эмигрировал. Осев в Нью-Йорке, Бурлюк неожиданно развил активность в просоветски ориентированных группах и даже написал хвалебную поэму к 10-летию Октябрьской революции. Одно время издавал эмигрантскую газету, а затем ушел в живопись.
Ирония судьбы состояла в том, что в зрелом возрасте Бурлюк вполне оценил русскую классику. Во время Второй мировой войны он создал большую работу «Дети Сталинграда» (1944) – ее иногда именуют бурлюковской «Герникой». Когда это стало безопасно, стал с удовольствием посещать СССР.

Северянин (Лотарёв) Игорь Васильевич (1888 – 1941) – яркий представитель эгофутуризма, умеренного течения футуризма, для которого характерны размещение в центре творческого процесса собственного «эго», демонстративное себялюбие, самоирония, самопародия и рафинированность ощущений.
Переживший бешеную популярность Игорь Васильевич относился к собратьям по перу снисходительно, он примыкал к группе футуристов лишь около года, в течение которого совершил множество турне по России, соревнуясь в мастерстве с Маяковским. Доходчивая музыкальность его поэзии при всей ее вычурности выгодно отличалась от колющих фирм молодых ретивых футуристов-реформаторов. Во время гражданской войны оказался в Эстонии, сначала гастролировал, затем вел полунищенское существование и писал автобиографические романы.
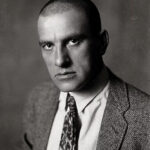
Маяковский Владимир Владимирович (1893 – 1930) – русский и советский поэт, самый известный представитель кубофутуризма, поднявший на знамя идеи бунта и свободу самовыражения. В его творчестве преобладает противопоставление героя обыденности.
В Москве Маяковский познакомился с революционно настроенными студентами, начал увлекаться марксистской литературой и даже вступил в РСДРП. Долго не мог выбрать между живописью и поэзией. С Бурлюком познакомился в училище живописи и быстро вошел в творческий круг футуристов. Раннее творчество Маяковского экспрессивно и метафорично. У Маяковского что ни строка, то новый образ.
Для него характерны использование новых композиционных и графических эффектов, эксперименты с фигурным расположением строф.
После 1917 года Маяковский стал много писать; за пять предреволюционных лет им написан один том стихов и прозы; за двенадцать послереволюционных лет – одиннадцать томов. По сути Маяковский – трагический поэт, и только на этом пути он создавал гениальные вещи. Несмотря на эпатаж молодых лет, темы смерти и вечной неразделенной любви – центральные в его творчестве. В нем в последние годы в полную силу проявился драгоценный дар доброты, нежности, душевного тепла, о которых мало известно.
Маяковский – трагическая личность: оптимисты не ставят последнюю точку в своей жизни таким образом, как сделал это он. Очевидно, он переживал глубокий творческий кризис. При жизни никто не оценил подлинного масштаба Маяковского.

Хлебников Велимир (Виктор) Владимирович (1885 – 1922) – самый необычный даже среди необычных футуристов, это настоящий русский дервиш и председатель земного шара». Особенно активно занимался революционными преобразованиями в области русского языка; как и Бурлюк, предлагал создать новый универсальный язык. Для его творчества характерны многочисленные неологизмы, так называемое «сопряжение корней» или «скорнение».
Первые известные литературные опыты Хлебникова относятся к 1904 году. Необычные стихи Хлебникова, человека не от мира сего, читали с интересом, но издавать не торопились. Значительную часть в творчестве Хлебникова занимали космологические мотивы.
Поэт выдвигал идею о том, что всё во вселенной подчиняется единым законам, а также пытался при помощи поэзии связать время и пространство. Встроиться в советскую действительность у него не было никакой возможности. В редакциях косились на человека, носившего свои стихи в наволочке. Поэт не мог ходить на службу, как все, и много путешествовал. Влияние Хлебникова на развитие русского авангарда переоценить невозможно.

Крученых Алексей Елисеевич (1886 – 1968) – художник, издатель и теоретик стиха. Яркая личность, провокатор и «эпатажник», «заводила», генератор идей группы футуристов. Его авторские сборники 1912 года – «Помада», «Поросята», «Взорваль».
Творческое кредо Крученых – деформация языка и грамматики, нагромождение слов текста друг на друга, подчинение смысла сиюминутным чувствам, отказ от синтаксиса и строфики. Разрабатывая оригинальную стиховедческую концепцию «сдвигологии», Кручёных дальше всех футуристов пошёл по пути абсурда, игры со звуками, дробления слова и словесной графики. Наряду с произведениями заумного языка для его творчества характерно стремление к грубой хаотичности, к отвратительному, к дисгармонии и антиэстетизму.
С 1930-х годов отходит от литературы и живёт очень стесненно – только продажей редких книг и рукописей. Среди них он и умер. Совсем один, оставшийся незамеченным властями.

Асеев Николай Николаевич (1889 – 1963) – деятель русского футуризма, русский советский поэт, переводчик и сценарист. Начал публиковаться в детских журналах. Первый сборник Асеева «Ночная флейта» (1914) носил следы влияния символизма.
Знакомство с произведениями В. В. Хлебникова, увлечение древнеславянским фольклором сказались в его сборниках «Зор» (1914), «Леторей» (1915).Формированию таланта Асеева способствовало творческое общение с В. В. Маяковским, но в отличие от него, Асеев отказался от экспериментов молодости, отошел от идеалов футуризма, отлично устроился в жизни и даже, подобно Пастернаку, выработал собственный, индивидуальный стиль. Асеев избежал призыва в армию и гармонично вписался в идеологические рамки советской действительности, жил примерным семьянином в московском «Доме писательского кооператива», где установлена посвященная ему мемориальная доска. Удостоен Сталинской премии первой степени, тем не менее с воодушевлением воспринял хрущевскую оттепель.

Каменский Василий Васильевич (1884 – 1961) – поэт, художник и прозаик, устремленный ввысь «человек и аэроплан». С 1904 года – сотрудник газеты «Пермский край», где и публикует свои стихи и заметки. В газете он познакомился с местными марксистами, определившими его дальнейшие левые убеждения. С 1908 года работал заместителем главного редактора в журнале «Весна», где и познакомился с видными столичными поэтами и писателями, в том числе и с футуристами. Некоторое время Каменский был авиатором, одним из первых в стране освоил моноплан «Блерио XI».
В 1913 году переехал в Москву, где примкнул к группе кубофутуристов и активно участвовал в её деятельности (в частности, в издании сборника стихов «Садок судей»). Каменский вместе с Бурлюком и Маяковским активно путешествовал по стране с выступлениями. Особый интерес представляет «железобетонная» поэма Каменского «Константинополь» 1914 года – синтез изобразительной графики и слова.
С восторгом принял революцию. Вел культработу в Красной армии. Работал с Мейерхольдом. Большим успехом в СССР пользовалась патриотическая поэма Каменского «Емельян Пугачёв». Удостоен Сталинской премии.
Как и все в этом мире, со временем футуристическая концепция устарела. Культурный нигилизм отошел в тень. Довольно лихо отработав язык поэзии как материал, футуристы (те, кто благополучно дожил до старости) вынуждены были признать, что задача искусства – все же не эпатаж, не бравада, а преобразование временного в вечное.
Источник: pishi-stihi.ru